Американка провела полтора года в образе мужчины — вот что свело ее с ума

Почему мужчинам так трудно выстраивать отношения с другими людьми и со своими собственными эмоциями?
ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>>
Где мы сегодня находимся в этом бесконечном споре о "кризисе маскулинности"? Мы стоим по колено в разных дискуссиях, оглушенные неумолкающей тревогой о мужчинах и их перспективах: об их низком уровне образования и отсутствии друзей, о ...графии и азартных играх, о показателях самоубийств. И всё это на фоне того, как техноэлита, демонстрируя новообретенные выпуклые мышцы, призывает добавить нашим партнерам "маскулинной энергии", а на свет появляется отвратительный новый вид спорта: "гонки ...тозоидов". Неудивительно, что возникла принципиальная позиция презрения. По мнению критиков, так называемый кризис на самом деле — кризис ответственности: отказ мужчин эмоционально саморегулироваться и вести себя по-взрослому. По этой логике в кризисе не мужчины, в кризисе вся Америка. А говорить иначе, значит впадать в "сочувствие к мужчинам" — чрезмерно переживать о мужских чувствах и тем самым подыгрывать их реакции.
На фоне этого разговора, одновременно раздутого и удивительно пустого, из небытия извлекли старую книгу. Она была эксцентричной и вызывала неловкость даже в свое время, но сейчас почему-то притягивает открытой любознательностью и отсутствием зажимов. Одновременно она показывает, как любая идея, пропущенная через кривое зеркало нынешней публичной полемики, возвращается обществу в самом гротескном виде.
Ее автор, журналистка Нора Винсент, в глазах части аудитории превратилась едва ли не в "крестную мать" сферы мужчин. В книге "Самостоятельный мужчина" (2006) она описала 18-месячный социальный эксперимент: переодевшись мужчиной, она проникала в сугубо мужские пространства. В образе мужчины по имени Нед она ходила на свидания, устраивалась на работу, какое-то время провела в монастыре. Вступила в боулинг-лигу и ошивалась в затхлых стрип-клубах. Винсент думала, что ее проект покажет: мужчины идут по жизни с такой легкостью, которую женщинам трудно даже вообразить. Но реальность жестоко ее отрезвила. Мужчины, которых она встретила, были одиноки и несчастны. Их боль стала ее болью. А когда она пыталась знакомиться и ходить на свидания как мужчина, жестокость женщин потрясла ее и унизила.
На форумах "за права мужчин" историю Винсент охотно переписывают: ее самоубийство нередко прямо связывают с тем, что женщины якобы отвергли ее. (Она умерла в 2022 году, прибегнув к медицински ассистированному самоубийству через 16 лет после эксперимента и после долгого периода депрессии, не поддававшейся лечению.) В глазах новых поклонников Винсент — редкая женщина, которая "понимает": она может признать мужскую боль, потому что сама ее испытала. "Она действительно понимала нас так, как большинство людей не способно, — пишет один пользователь соцсети Reddit. — Потратьте минуту, чтобы оценить, через что она прошла (и через что мы проходим каждый день, даже не задумываясь)".
Ее новые почитатели, похоже, молоды, но не многие из них, судя по всему, читали книгу. Большинство знают о ней по потокам прощальных роликов в TikTok. "Покойся с миром, Нора, — написал один. — Ты старалась изо всех сил, и за это я лично благодарен тебе. Надеюсь, где бы ты ни была сейчас, тебе спокойно. Просто знай: твое послание и твой опыт живут во всех, кто надеется на лучшее завтра". Другой пользователь выразился проще: "Нора была “своим парнем”".
Те, кто знал Винсент, были ошеломлены тем, что ее книгу подхватили активисты "за права мужчин", а ее жизнь так исказили (как она бы это возненавидела, сказал мне один человек). Она не была "радикальной феминисткой", как ее теперь представляют. В своих колонках в журнале The Village Voice и The Los Angeles Times она сравнивала аборт с "запоем" и последующим "очищением", а также обрушивалась на геев из-за "распространения СПИДа". Ее презрительное отношение к вопросам, которые поднимали трансгендерные люди, вызвало акцию протеста у офиса The Voice. Она отмахнулась от критики. Как лесбиянка, говорила она, имеет право задавать такие вопросы: "Это всего лишь спор внутри сообщества, — настаивала она. — И где же безопаснее его вести, как не на страницах The Village Voice? Это же не National Review. Вы обсуждаете разногласия среди своих — ради этого и существует пресса".
Когда перечитываешь ее статьи, продираясь через корявый синтаксис и возмущение, которое кажется одновременно нарочитым и непроизвольным, возникает ощущение, что на самом деле она больше всего хотела одного: чтобы ее заметили.
Сама книга сложнее, чем говорят ее новые поклонники, и куда искреннее и самокритичнее, чем можно было бы ожидать по тем язвительным колонкам. И она печальнее, чем я ее помнила. Сегодня книга "Самодельный мужчина" выглядит устаревшей и ограниченной, потому что в ней нет признания трансгендерного опыта, но при этом она трогает тем, как показывает маскулинность "изнутри наружу": не как временный кризис, а как постоянное угнетенное состояние.
Мужчины страдают не потому, что к ним плохо относятся женщины, меняются нравы или экономика. Настоящий ущерб, который фиксирует Винсент, гораздо глубже: это ущерб, который мужчины учатся наносить сами себе часто еще в детстве. Это была и та цена, которую заплатила она, став Недом: отказавшись от чувств и выразительности, от самого языка.
Всё это пришло позже. Начиналось же как шутка. Однажды вечером подруга предложила Винсент выйти на улицу, переодевшись мужчиной. Та надела фланелевую рубашку, бейсболку, наклеила усы и эспаньолку. Они гуляли по району, и никто не обращал на нее внимания. Как писала Винсент, в женском образе она привыкла к взглядам — к тому, что на тех же улицах ее разглядывают и оценивают, а теперь мужчины отводили глаза.
"Это было поразительно, — писала она. — Разница в уважении, которое мне продемонстрировали, не глядя на меня, намеренно не таращась". Чем больше она думала об этом жесте, тем значительнее он ей казался. "В их отведенном взгляде передавалось что-то большее, чем уважение, — что-то тоньше, менее прямолинейное. Скорее нежелание проявить неуважение, — писала она, — оставить каждого мужчину в его крошечной сфере влияния, в небольшом буфере гордости и самообладания, который его окружает и удерживает".
Ей показалось, что ниже уровня ее восприятия проходит скрытый слой смыслов. Она начала эксперимент, ориентируясь на классические образцы "журналистики погружения" — Джорджа Оруэлла, Джона Ховарда Гриффина, Барбары Эренрайх. Ее цель была не в том, чтобы доказать, будто мужчинам живется легче, а в том, чтобы показать: у них есть тайная жизнь — полная близости и общения, в которую женщины не посвящены и которую не понимают.
Она не принимала гормоны, но тренировалась с утяжелителями и добавляла себе легкую щетину. Училась голосу и пластике. Вступила в еженедельную сугубо мужскую боулинг-лигу, работала в продажах и посещала ежемесячные "мужские встречи".
Поначалу именно этот "мужской подтекст" казался ей экзотикой: микро-близость, которую она улавливала, короткие вспышки тепла и уважения между мужчинами. Даже рукопожатие ощущалось откровением: "Получив рукопожатие, ты получаешь прилив эмоций, мгновенное включение в товарищество, которое казалось очень старым и близким". Но постепенно она стала замечать, что мужское общение мучительно неуклюже — "будто машинки с огромным бампером, пытающиеся втиснуться в один поток". Мужчины, которых она встречала, ощутимо нуждались друг в друге; казалось, им отчаянно не хватает близости, но они не могли говорить ни о чем личном. Об одном из незнакомцев она писала так: "Я чувствовала его одиночество, его потребность в близости, которую он так долго подавлял: она выпирала наружу, как ладони человека, который изнутри упирается в стекло тонущей машины. Он был там жив — целый, за этой подавленностью и заброшенностью".
Дело было не только в том, что они не хотели говорить о чувствах. Некоторые не могли даже назвать их. Другие вообще не осознавали, что у них есть чувства, как рассказывал один участник на мужском ретрите "за права мужчин". Винсент вспоминала своих братьев. "Из мужчин с раннего возраста как будто выбивают слезы и эмоциональную выразительность, — говорила она в интервью. — К тому моменту, когда они становятся взрослыми, у них уже нет ни словаря, ни эмоциональной осознанности, чтобы по-настоящему сказать, что они чувствуют".
Она почувствовала, как этот процесс начинает действовать и на нее: мужчины отстранялись всякий раз, когда Нед проявлял слишком много эмоций, слишком бурно радовался. В детстве она завидовала мальчикам — их раскованности, но жизнь в роли Неда, в его узком эмоциональном диапазоне, казалась удушающей. "Я урезала в себе всё: смех, подбор слов, жесты, мимику. Спонтанность вылетела в окно, ее сменили лаконичность, притворство и контроль. Я зачерствела и отказывалась от чувств почти до окостенения". Ей не хватало эмоциональной амплитуды, доступной женщинам: "Женщинам доступны октавы чувств: хроматические гаммы слез и радости, тревоги и отчаяния, эротической яркости". Мужчинам оставались ирония, молчание и ярость. Этот постоянный контроль и самоконтроль выматывал. "Кто-то всегда оценивает твою мужественность. Другие мужчины, другие женщины — да хоть дети".
Со временем она раскрыла свою настоящую личность. И к ее удивлению, все окружающие — монахи в монастыре, компания из боулинга, женщины, с которыми она встречалась, — отреагировали одинаково. Сначала никто не верил, никто не подозревал, что Нед — женщина (хотя нескольким монахам казалось, что он гей). Но как только шок прошел, каждый из ее контактов почти мгновенно стал ближе и свободнее. Ее партнер по боулингу открылся и рассказал о раке у жены. Монахи, прежде холодные и неприветливые, доверились ей. Все сходились в одном: Нед им нравился, но им нужна была Нора. В навязанном состоянии разобщенности, которое и есть маскулинность, Винсент увидела ключевую роль женщин: их как будто мобилизуют на роль посредника между мужчинами и их собственным внутренним миром.
Эта история о том, как маскулинность совершает набег на внутреннюю жизнь, выхолащивает воображение и разграбляет язык общения, что сейчас кажется почти неизбежным. Эти мотивы всплывают на телевидении, в литературе, в театре. Был ли в этом году фильм, который хоть как-то не касался бы темы мужественности — ее мифов и странностей?
Во многом такие произведения тянутся к символическому смыслу и следуют определенному лекалу: отец скорбит или ищет пропавшего ребенка. Однако ребенок оказывается лишь повествовательной уловкой, его едва успевают "позвать" в сюжет, как тут же убивают. Да и, по сути, сюжет сплетен слишком схематично, чтобы стать подлинным. Фактически ребенок — это замена утраченной чистоты и "настоящего я" взрослого. Мы наблюдаем, как мужчины оплакивают собственные жизни.
В последние годы психолог Рональд Левант популяризировал понятие "мужской алекситимии". Алекситимия — это неспособность распознавать эмоции (буквально: отсутствие слов для чувств). Левант утверждает, что, поскольку мальчиков учат подавлять эмоции из страха показаться "женственными", они постепенно утрачивают способность эти эмоции вообще идентифицировать. Некоторые исследования показывают: в раннем возрасте мальчики внешне эмоциональнее девочек, но к двум годам они уже меньше выражают эмоции словами, а к четырем — меньше проявляют их мимикой. К подростковому возрасту единственной эмоцией, которую мальчикам как будто "разрешено" демонстрировать открыто, остается злость.
Возможно, я сейчас описываю Иштвана, героя романа венгерско-британского писателя Дэвида Солоя "Плоть", чью победу на Букеровской премии газета The Guardian отметила редакционной статьей как "мужское возвращение". Вот оно сознание мужчины, обнаженное до предела.
Вот только у Иштвана нет внутренней жизни. У него почти нет языка. Он произносит слово "OK" около 500 раз. Он не понимает, когда и почему его прорывает яростью, не осознает даже, что плачет. Большая часть ...а в романе для него нежеланна и сбивает его с толку, он почти не чувствует ни собственного желания, ни собственного тела. Значительную часть книги он как будто отмечает лишь одно: он обильно потеет, словно подавая нам знак о невидимой цене мужской "игры на публику" (которую со временем он начнет требовать и от своего сына). И всё же наблюдения Иштвана становятся ярче от подтекста. Он замечает животных в клетках и мутную воду. Он многозначительно вглядывается в далекие холмы: "Они похожи на мебель, накрытую простынями, так что невозможно точно увидеть, что под ними".
Винсент в своем перевоплощении описывает, как на мгновение она заглянула в этот ландшафт — в состояние оторванности от себя и других, которое для многих мужчин является нормой и редко вызывает интерес или сочувствие, пока не выльется в насилие.
Много лет назад у меня был особенно талантливый студент: он писал автобиографический роман об отношениях отца и сына. Его черновики были испещрены повторяющейся пометкой на полях — о том, что не хватает материала, который надо будет дописать позже: "требуются М и Ч"; "здесь добавить М и Ч"; "нужны какие-то М и Ч". Как он потом объяснил, "М и Ч" означало "мысли и чувства".
Сколько можно списывать всё на этот диагноз? Не кажется ли странным так настаивать на мужской немногословности, учитывая мужскую тягу к подкастам? Или же эта тишина особенно важна писателям, для которых сама мысль о нехватке языка — особенно тревожна?
Эти вопросы свидетельствуют о многом, прежде всего, своей скуповатостью. Книга "Самодельный мужчина" вышла в ту эпоху, когда разговор о маскулинности казался открытым и по-настоящему освобождающим. Забота о мужчинах не отменяет переживаний женщин и детей, которые страдают от их рук. Напротив — это способ отнестись к этому страданию всерьез и вырвать его корень.
Была ли та боль, которую Нора Винсент увидела в мужчинах — эта глубокая тишина и разобщенность, — невыносима потому, что она была ей чужой, или потому, что слишком знакомой? Я думаю о ее самоубийстве. В одном эссе она описывала одну из своих попыток: она приставила к горлу разделочный нож. Ее книга — ясное и прямое решение сделать любую боль "читаемой", освободить больше слов, чтобы можно было говорить о ней.
Источник
Поделиться с другом
Комментарии 0/0

 6 сытных салатов без майонеза: заменят весь ужин
6 сытных салатов без майонеза: заменят весь ужин 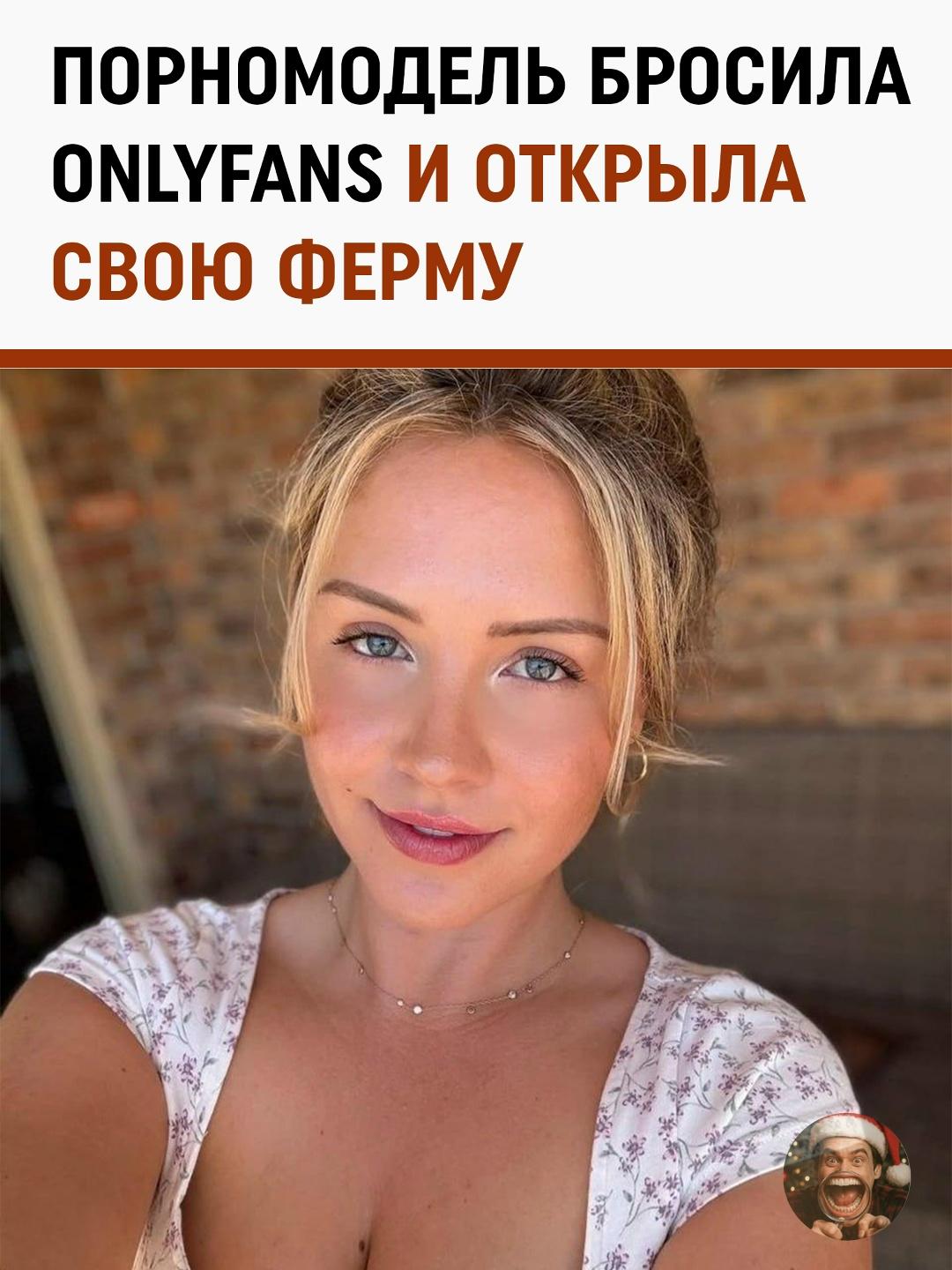 Австралийская модель, известная под псевдонимом Фермер Белль, решила кардинально сменить сферу деятельности и инвестировала заработанные на платформе миллионы в сельское хозяйство.
Австралийская модель, известная под псевдонимом Фермер Белль, решила кардинально сменить сферу деятельности и инвестировала заработанные на платформе миллионы в сельское хозяйство.  Жительница Екатеринбурга Мария купила автомобиль Hyundai через сайт объявлений
Жительница Екатеринбурга Мария купила автомобиль Hyundai через сайт объявлений  8 хитростей, которые сделают маленькую кухню удобнее
8 хитростей, которые сделают маленькую кухню удобнее  Адыгейский сыр готов за 2 часа: нужно только молоко и кефир
Адыгейский сыр готов за 2 часа: нужно только молоко и кефир  Утка согрела и вырастила котят и теперь они за ней ходят, словно утята. Видео
Утка согрела и вырастила котят и теперь они за ней ходят, словно утята. Видео  Как вычислить нарцисса: 5 признаков, что мужчина разрушает вашу психику, а вы и не заметили
Как вычислить нарцисса: 5 признаков, что мужчина разрушает вашу психику, а вы и не заметили 


















